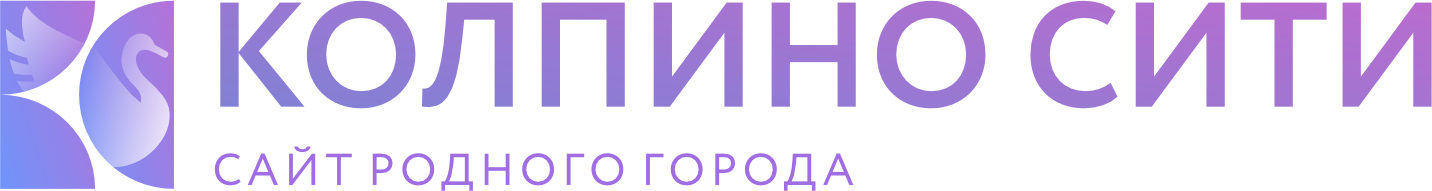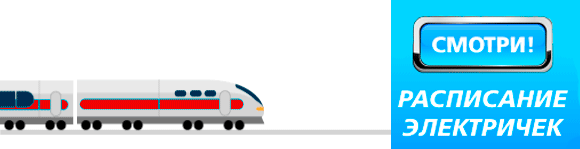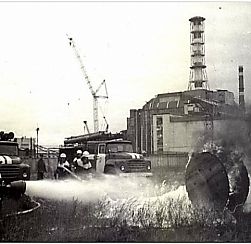26.04.2025
Новости Колпино-СИТИ
Колпино в период блокады (1941-1944 гг.)
24.01.2015 16:49
...
4
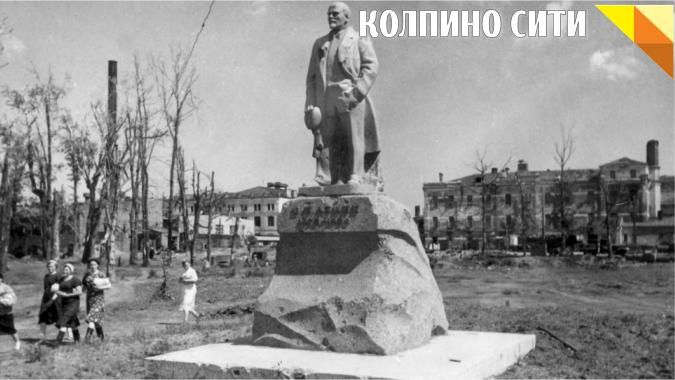
Мобилизация
Известие о начале войны было встречено на ИЗ митингами, выражавшими уверенность в неминуемой победе советского народа. Ижорцы выражали готовность ударным трудом помочь Красной Армии.
В первые две недели с начала войны заявления с просьбой об отправке на фронт подали 8358 человек. Просьба пяти тысяч была удовлетворена. Ещё 901 человек в ночь на 10 июля отправились в Ленинград и влились в состав дивизии Народного ополчения
Всего в добровольческие формирования во время войны влились около 10 тысяч рабочих ИЗ (более половины численности в предвоенный период).
Организация обороны Колпина в июне-августе 1941 г.
Уже в первые дни войны в Колпине был создан штаб обороны. Основными его задачами были:
1) сооружение рубежа обороны от Ям-Ижоры до Октябрьской железной дороги и далее к Неве (Слуцко-Колпинского оборонительного рубежа);
2) формирование добровольческих частей и подразделений;
3) организация работы ИЗ на нужды обороны.
Создаваемая система круговой обороны Ленинграда состояла из двух поясов оборонительных сооружений. Колпино входило во внешний пояс, проходивший по линии Петергоф – Пулково – Колпино. Первоначально эта линия создавалась в расчёте только на затруднение продвижения немецких войск к Ленинграду. Её создавали бойцы МПВО, женщины, старшеклассники вместе со своими учителями. Ежедневно на эти работы выходило до шести тысяч человек, из них около 2,5 тысяч — ижорцев после 12часовой смены на заводе.
Трудящиеся Колпина, рабочие и служащие ИЗ, личный состав подразделений МПВО в короткий срок создали вокруг города оборонительную полосу, протянувшуюся на 15 км от Московского шоссе до Невы. Она включала в себя долговременные огневые точки, блиндажи, пулемётные гнёзда, 120 км траншей.
Из рабочих завода были созданы три истребительных батальона: 73й, 74й, 75й. В их обязанности вменялась охрана стратегических объектов, борьба с диверсантами, сигнальщиками и вражескими парашютистами. Личный состав продолжал работать на заводе, а после смены отправлялся в казармы, где обучался стрелковому делу, тактике ведения боя. В казармы были превращены здания школ.
21 августа штаб обороны поручил сформировать из рабочих ИЗ артпульбат инженеру завода лейтенанту Г.В. Водопьянову. В течение нескольких дней были укомплектованы первые подразделения: артдивизион, пулемётная рота, сапёрный взвод, взвод управления. Батальону было передано оружие заводского артиллерийского полигона: 76мм и 45мм орудия, артиллерийско-пулемётные установки. На вооружение батальона были переданы изготовленные на ИЗ бронемашины. Через штаб армии Народного ополчения удалось получить лишь несколько сот винтовок и гранат, пару пулемётов и орудий. Полностью вооружить и экипировать батальон в штабе армии обещали позже, а пока предложили воевать тем, что имеется. Водопьянов принял решение выдать винтовки и гранаты рабочим, имевшим боевой опыт Гражданской войны и недавней финской кампании. Оставшуюся часть личного состава пришлось вооружать охотничьими ружьями, бутылками с горючей жидкостью и самодельным холодным оружием: пиками, тесаками и железными палками.
Слуцко-Колпинский оборонительный рубеж
Первый бой
28 августа 1941 г. 122я пехотная дивизия вермахта захватила посёлок Красный Бор, железнодорожную станцию Поповка, а на Московском шоссе выдвинулась на окраину ЯмИжоры, захватив её на следующий день.
Дальнейшее наступление могло развиваться в направлении Ленинграда. Но немецкая дивизия, свернув с Московского шоссе, стала продвигаться вдоль берега Ижоры. Колпино оказалось в непосредственной близости от передовой.
В ночь с 28 на 29 августа отряд в количестве 61 человека, возглавленный председателем райисполкома А.В. Анисимовым, провёл разведку в районе ижорских немецких колоний. Было установлено, что в ЯмИжоре находились немецкие солдаты. Отряд расквартировался в колонии и начал рыть окопы на её южной окраине.
Вслед за отрядом Анисимова оборонительный рубеж заняли 73й, 74й, 75й истребительные батальоны и артпульбат Водопьянова. К началу военных действий на колпинских рубежах стояли дивизионы зенитчиков, а также пограничники 167го полка, рота дивизиона НКВД из охраны завода и 67 бойцов из подразделений МПВО. Огнём своих орудий и пулемётов они поддерживали действия отрядов, сформированных из колпинцев и рабочих завода. Зенитчики били по самолётам и по наземным целям, по скоплениям и передвижениям войск противника и по их огневым точкам.
2 сентября Анисимов вернулся к исполнению своих непосредственных обязанностей.
4 сентября ижорские формирования приняли первый бой. В этот день была предпринята попытка выбить гитлеровцев из ЯмИжоры, но эта операция не имела успеха. Артпульбат Водопьянова получил задание провести разведку боем и занять ямижорское кладбище. Его должны были поддержать 75й истребительный батальон и ижорская артбатарея. Но обещанная поддержка не поступила: 75й батальон, израсходовав все боеприпасы, замедлил действия, что и позволило противнику прийти в себя. Оправившись от удара, при поддержке артиллерии и миномётов он перешел в контратаку. Чтобы не оказаться отрезанным от своих, отряд Водопьянова стал отходить. В этом бою Водопьянов получил ранение, но уже 8 сентября он снова был в строю. В этом бою батальон понёс первые потери: 10 человек убитыми и 39 ранеными.
Начальные бои многому научили защитников Колпина. Стало ясно, что надо готовиться к длительной обороне, что враг силён, и борьба с ним потребует от каждого защитника воинского мастерства, мужества и стойкости.
Создание Ижорского батальона
В первых числах сентября началось комплектование ещё одного истребительного батальона из рабочих ИЗ, который возглавил инженер завода лейтенант В.С. Кудрявцев.
Приказом штаба СКУР № 11 от 7 сентября для отражения готовящегося наступления немецких войск батальоны Водопьянова и Кудрявцева были объединены в отдельный пулемётноартиллерийский батальон ижорских рабочих в составе трёх стрелковых и пулемётной роты. В него же вошли и добровольцы из отряда Анисимова, составив ядро 1й стрелковой роты. В середине сентября батальон был сформирован. Именно этот батальон вошёл в историю под названием Ижорский. В момент создания в его рядах было 1300 человек, а к концу сентября – 1400. В течение всей блокады он вместе с частями регулярной армии стойко держал оборону на окраине родного города. Его первым командиром стал Кудрявцев, Водопьянов был назначен начальником штаба, комиссаром батальона – председатель завкома Г.Л. Зимин.
Бои в середине сентября 1941 г.
Всю первую половину сентября южнее Колпина (в районах НовоЛисино, Красный Бор, ЯмИжора, Фёдоровское) шли ожесточённые бои. Противник бросил на это направление две пехотные дивизии, усиленные танками. На этом участке оборону держала 168я стрелковая дивизия полковника А.Л. Бондарева. Рядом с ней находились 289й ОПАБ, справа 261й ОПАБ. Ижорский батальон располагался ближе к Колпину и взаимодействовал с 462м стрелковым полком 168й дивизии.
Руководство города и завода решало в эти дни задачу дальнейшего укрепления передовых позиций, превращения Колпина в неприступный узел сопротивления. Несмотря на систематические обстрелы, удалось мобилизовать трудящихся на сооружение дополнительных противотанковых рвов, блиндажей, дотов, огневых точек. Все эти объекты создавались непосредственно на передовой линии фронта.
14 сентября немцы предприняли наступление, попытавшись прорвать оборону, которую держала дивизии Бондарева, захватить д. Путролово и выйти к Московской Славянке. В помощь дивизии Бондарева Ижорский батальон направил две бронемашины. Враг понёс большие потери и отступил. На следующий день атаки возобновились. 16 сентября форсировав р. Ижору, немцы (до 600 человек) заняли Путролово, но их дальнейшее продвижение было остановлено.
На участке, занимаемом 74м батальоном (слева от железной дороги по направлению к Неве), 15 сентября противник предпринял разведку боем, а утром следующего дня правый фланг подразделения подвергся сильному артиллерийскому и миномётному обстрелу. Трижды его позиции «утюжили» вражеские бомбардировщики. В 8.00 началась психическая атака. Немцы шли тремя цепями во весь рост, ведя беспорядочный огонь из автоматов. В разгар боя у защитников замолчал станковый пулемёт. Срочно прибывший на линию огня начальник штаба П.С. Веселов быстро устранил неисправность и лично вёл огонь, пока атака не была отбита.
16 сентября противник предпринял наступление на южную окраину ВерхнеИжорской колонии. К 11 часам он занял шесть домов, но дальнейшее продвижение немецких автоматчиков вглубь обороны было задержано огнём станковых пулемётов Ижорского батальона. К вечеру сражение разгорелось с новой силой. В бой были брошены все бронемашины батальона. Несколько раз сходились в рукопашных боях. Особенно упорным был бой в районе 1й роты: против неё немцы бросили до двух батальонов.
На другом участке обороны уже было взято Путролово.
17 сентября Военный совет Ленинградского фронта отдал строжайший приказ во что бы то ни стало удержать районы Московской Славянки, Шушар и Колпина — ключевые позиции обороны южной и юговосточной части Ленинграда. «Ни шагу назад! — требовал приказ. — Не сдавать ни одного вершка земли на ближних подступах к Ленинграду!»
18 сентября в ходе решительной контратаки Ижорского батальона противник был выбит из Верхней колонии. Линия обороны под Колпиным выровнялась. В последующие дни гитлеровцы предприняли несколько попыток прорвать позиции защитников колпинских рубежей, но безуспешно. Артиллерийским огнём батарея лейтенанта Филисова разгромила штаб полка противника в Красном Бору. 24 сентября из противотанкового рва были выбиты проникнувшие туда немцы.
К 25 сентября положение на этом участке фронта стабилизировалось. Командование группы армий «Север» сообщило в ставку фюрера о своем бессилии продолжать наступление на Ленинград. Ижорский батальон на всём протяжении своих позиций – от колонии и до железной дороги — начал рыть ходы сообщения, траншеи для подхода в тыл.
30 сентября истребительным батальонам было приказано сдать свои участки обороны подошедшей 125й стрелковой дивизии генералмайора Богайчука.
Так рабочие, плохо вооружённые, наспех обученные стрелять и бросать гранату, полуголодные, не защищённые от немецких самолётов, остановили врага на южной окраине родного города.
Армейское обмундирование батальонцы получили только 23 сентября. 27 сентября на имя начальника штаба 55й армии поступило распоряжение командующего фронтом генерала армии Г.К. Жукова в отношении ижорского формирования: батальон ижорских рабочих в состав армии не включать, иметь его для обороны города.
Подвиг ижорцев получил высокую оценку. Газета «Правда» 23 августа 1942 г. писала о необходимости широкого, быстрого и продуктивного применения бесценного опыта обороны Севастополя, Колпина, Тулы, Москвы, Ленинграда. Колпино стоит в ряду городовгероев. То, что Колпино названо наряду с Ленинградом, говорит о признании его особой роли в обороне блокадного города.
Октябрь-ноябрь 1941 г.
В двадцатых числах сентября происходит стабилизация линии фронта на всём участке Слуцко-Колпинского оборонительного рубежа. К тому времени уже замкнулось кольцо блокады. Отказавшись от попытки прорвать оборону Ленинграда, гитлеровцы прибегли к тактике взять город измором, лишив его сообщения со страной.
Командование фронтом посчитало, что создались благоприятные условия для наступления. В донесении Наркому обороны от 3 октября 1941 г. Г.К. Жуков и А.А. Жданов сообщали о задаче, поставленной 55й армии: «внезапной атакой левым крылом, вводом в бой свежих 125 и 268 СД со средствами усиления при поддержке фронтовой авиации нанести удар в общем направлении Колпино, Ульяновка, Любань с ближайшей задачей овладеть рубежом Чёрная Речка, Саблино».
466й стрелковый полк 125й дивизии смог овладеть противотанковым рвом, но на очень короткий период. В последующие дни ров несколько раз переходил из рук в руки, но в итоге остался за немцами.
До 24 октября 168я дивизия вела бои в районе Путролово – ЯмИжора. Но сил и средств для успешного наступления не было. 24 октября в дивизию поступил приказ наступление приостановить и сдать занимаемые рубежи 7й отдельной бригаде морской пехоты.
73й и 74й истребительные батальоны, пополненные бойцами, вышедшими из госпиталя и окружения, вошли в подчинение 32го стрелкового полка 86й дивизии и должны были овладеть рощей «Фигурная» на левом берегу р. Тосна, в районе д. Новая. В ходе двухнедельных боёв батальоны понесли огромные потери, но так и не смогли выполнить задачу. Погибли почти все ижорцы. Остатки этих формирований влились в 75й батальон, который перешёл на внутреннюю охрану города и занял вторую линию обороны на южной окраине Колпина.
Когда в батальон пришел приказ сменить позицию, некоторые бойцы и командиры заявили, что с занятого рубежа не уйдут и никому его не сдадут, а будут сами защищать свой родной город и завод. Пришлось командованию и политработникам немало поработать, чтобы убедить: оборону принимает дивизия более сильная во всех отношениях и с новым оружием.
Безуспешными были и все попытки наступления 268й, 70й и 90й стрелковых дивизий в районе УстьТосно в конце октябре – начале ноября.
В октябре все добровольческие подразделения, оборонявшие Колпино, вошли в состав 55й армии Ленинградского фронта. 29 октября командиром Ижорского батальона назначается Водопьянов (Кудрявцев был направлен на завод в Челябинск, где стал начальником участка, выпускающего танки).
Начиная с октября, в подразделениях, обороняющих колпинские рубежи, широко развернулось снайперское движение.
В ноябре 1941 г. за успешное выполнение заданий командования Военсовет 55й армии наградил значительную часть бойцов и командиров ижорских формирований.
Бои за 2й противотанковый ров
Юго-восточнее Колпина были вырыты два рва глубиной 3 м шириной 8 м. 2й ров начинался от посёлка ЯмИжоры, пересекал Октябрьскую железную дорогу и за зданием завода «Ленспиртстрой» выходил на Неву. В результате сентябрьских боёв советские бойцы удержали только 2,5 км северного участка 2го рва; остальные 8,5 км до шоссе были у немцев. К концу ноября они проложили по обеим сторонам три ряда проволочных заграждений, минные поля, разместили множество огневых точек, усилив тем самым свои позиции. Целью всех серьёзных последующих войсковых операций 55й армии стало преодоление этого рубежа.
25 ноября поступил приказ командующего 55й армии выбить немцев из 2го противотанкового рва. В продолжительной и кровопролитной операции в разное время участвовали 70, 72, 56, 90, 125, 268я дивизии.
21 декабря командир 125й дивизии генералмайор П.П. Богайчук выехал на передовой наблюдательный пункт в ротную землянку для постановки командиру 466го полка задачи по взятию противотанкового рва. При массированном артобстреле в землянку, в которую прибыл комдив, попал тяжёлый вражеский снаряд. Все, кто в ней находился, погибли.
В результате упорных боёв 28 декабря значительный участок рва окончательно был занят советскими солдатами, а линия фронта отодвинулась на 45 км. Немцам удалось удержать участок вблизи Ям-Ижоры.
Была предпринята попытка развить наступление и освободить Красный Бор, к тому времени хорошо укреплённый немцами. Но войска Красной Армии были ослаблены значительными потерями, и наступление захлебнулось.
Январь-июнь 1942 г.
К началу 1942 г. линия обороны стабилизировалась на новом рубеже. В январе попытку овладеть Красным Бором предприняла 125я дивизия, но наступавший в первом эшелоне 657й полк понёс огромные потери.
19 февраля по приказу командования 56й стрелковой дивизии усиленный взвод третьей роты Ижорского батальона при поддержке артиллерийского и миномётного дивизионов пошёл в наступление в район ЯмИжорского кладбища. Перед подразделением стояла задача: отвлечь на себя часть огня противника и тем самым способствовать наступающему левее стрелковому батальону овладеть перемычкой противотанкового рва и выйти на заданную позицию. Батальоном задача была успешно выполнена, но овладеть посёлком частям Красной армии тогда не удалось.
В апреле 1942 г. ещё 35 бойцовижорцев были награждены орденами и медалями. Но батальон понёс значительные потери. На 6 апреля 1942 г. число убитых и раненых, а также уволенных по болезни, составило 556 человек. Стрелковые роты насчитывали по 3540 бойцов. В письме начальнику отдела укомплектования 55й армии испрашивалось разрешение о выдаче Колпинскому райвоенкомату наряда для направления в батальон стрелков, пулемётчиков и артиллеристов из числа рабочих ИЗ.
С 5 мая 1942 г. батальон стал именоваться 72м ОПАБ и был передан 14му укрепрайону 55й армии. К этому времени батальон включал в себя четыре артпульроты, взводы разведки, сапёрный, хозяйственный, комендантский, связи, артиллерийский и миномётный дивизионы, а также бронедивизион.
В соответствии с приказом штаба 56й стрелковой дивизии Ижорский батальон сдал свой участок обороны и принял участок во втором эшелоне в границах: р. Ижора — 1я колония — Малая Ижорка, вдоль противотанкового рва, пять огневых точек в районе ИЗ. 27 июля он дополнительно принимает от 289го ОПАБа участок обороны от р. Попова Ижорка до р. Ижоры. Протяжённость рубежа составила 8750 метров с четырьмя опорными пунктами. В целом этот участок рубежа был плохо оборудован: огневые точки для укрытия техники отсутствовали, не было ходов сообщения, наблюдательных и командных пунктов и землянок.
Личный состав батальона в короткие сроки построил всё необходимое в соответствии с фортификационными требованиями. Перед передним краем обороны батальона создали противотанковые и противопехотные заграждения.
Путролово
23 июля 1942 г. части 55й армии: 268я стрелковая дивизия, 84й батальон 220й танковой бригады, 72й ОПАБ – в ходе операции «Ям-Ижора – Путролово» стремительным ударом разгромили укрепления гитлеровских войск и захватили деревню Путролово и участок Московского шоссе на левом берегу Ижоры. 8 августа была освобождена Ям-Ижора.
1943 г.
В январе 1943 г. вражеская блокада была прорвана. В февралемарте части 55й армии (136я дивизия) повели наступательные бои в районе Красного Бора. Сопротивление немцев в этом районе носило исключительно яростный характер, так как их командование понимало: потеря этих господствующих высот означала, что дорога на Ленинград им окончательно закрыта. На наступающие советские части была обрушена вся мощь артиллерийскоминомётного огня и авиация, брошены все резервы, в бой вводились танковые части.
В боях за Красный Бор отличились бойцы Ижорского батальона. В наступлении на посёлок принимал участие бронедивизион.
Операция под Красным Бором в марте не решила всех задач, поставленных перед нею. Однако она сорвала подготовку немцев к наступлению на Ленинградском фронте, сковав силы дивизий, предназначавшихся для наступления.
В мае этот участок фронта был использован в качестве плацдарма для дальнейшего наступления частей Красной Армии в направлении Красный Бор — Саблино — Тосно. Задача, которая командованием была поставлена перед 72м ОПАБом, считалась выполненной. За проявленное мужество и отвагу большой группе батальонцев были вручены правительственные награды, среди них — Н.И. Гвоздев, П.И. Круташинский, В.Л. Серченко, М.А. Богданов, А.П. Еремеев и др. Бойцам Ижорского батальона первым на Ленинградском фронте летом 1943 г. были вручены и медали «За оборону Ленинграда».
1944 г.
Ижорский батальон
1520 января 1944 г. войска Ленинградского фронта перешли в наступление. 72му ОПАБу была поставлена задача взять высоту «Фёдоровская». Успешно выполнив её, батальон взял направление на Вырицу. 27 января он занял Вырицу. В этот день Ленинград был полностью освобождён от вражеской блокады.
При наступлении на Оредеж – Лугу ижорцы воевали на стыке 42й и 54й армий. С боями они прошли Псков, Прибалтику, вышли к Рижскому заливу, а окончил батальон свой боевой путь на границе с Финляндией. «За образцовое выполнение задания командования в боях с немецкими захватчиками, за участие в овладении городом Псковом и проявленные при этом личным составом доблесть и мужество» батальон был награждён орденом Боевого Красного Знамени. 826 бойцов и командиров к этому времени были отмечены боевыми наградами.
День Победы ижорцы встретили на Карельском перешейке, где они охраняли границу с Финляндией. В июле 1945 г. пришло известие о демобилизации.
Колпинцы – Герои Советского Союза
За мужество и героизм, проявленные во время войны, колпинцы были награждены орденами и медалями. Нескольким из них было присвоено самое высокое звание – Героя Советского Союза. Это Александр Косарев, Владимир Рогозин, Алексей Тазаев, Леонид Жолудев, Михаил Панов.
Ижорский завод
Эвакуация
Директором ИЗ накануне войны, в июне 1941 г., назначается М.Н. Попов, занимавший при Н.С. Казакове должность главного инженера.
Через несколько дней после начала войны М.Н. Попов и директор Кировского завода И.М. Зальцман были вызван в Москву. И.В. Сталин поставил перед ними задачу организовать танковое производство на Урале и Сибири.
Ижорский и Кировский заводы переехали в Челябинск. ИЗ должен был организовать производство бронекорпусов, а Кировский – сборку танков. Созданный ижорцами в Челябинске завод получил номерное обозначение (№ 200).
Были сформированы группы специалистов, которые отправилась на Магнитогорский, Кузнецкий заводы, на «Красное Сормово» и др. Большая группа специалистов и рабочих была направлена на Уралмаш, а затем перешла на завод № 200. Все эти группы сыграли исключительную роль в быстрейшем освоении бронетанкового производства. На Урале по существу была создана заново танковая промышленность, причём в сроки, которые в мирных условиях попросту невозможны.
Эвакуация началась в конце августа. В восточные районы страны были отправлены трубопрокатный стан, оборудование ТЭЦ и строящихся цехов. Но всё оборудование вывезти не успели, поэтому горком партии и Военный совет Ленинградского фронта приняли решение перенести станки на площадки ленинградских предприятий. Колпинские рабочие с семьями были командированы на заводы «Арсенал», им. К. Ворошилова и др.
На случай прорыва обороны завод был заминирован на основании приказа Высшего командования за № 148 от 30 ноября 1941 г. «По части уничтожения военных объектов».
В период с 21 октября до конца 1941 г. на Урал и в Сибирь вместе с оборудованием было эвакуировано 6 тысяч ижорцев. Вскоре в Магнитогорске на блюминге начали катать танковую броню, в Свердловске был освоен выпуск тяжёлых боевых машин «ИС» и самоходных артиллерийских установок СУ152.
В конце ноября 1941 г. М.Н. Попов назначается директором завода по производству танковых корпусов в Челябинске.
Организация работы завода в условиях блокады
В середине июля персонал завода был переведен на казарменное положение. Инженеры и мастера имели право покинуть завод только в субботу после шести вечера и обязаны были вернуться в воскресенье не позже восьми вечера. «Большинство инженеров жило в Ленинграде, и мы ездили домой поездом, который изза близости врага формировался в 8 км от Колпино, на станции Славянка. Этот путь мы проходили пешком», – вспоминает начальник трубопрокатного цеха Савелий Шулькин.
На 1 сентября 1941 г. персонал завода составлял 1081 человек. Остальные были призваны в ряды Красной Армии, вступили в ряды Народного ополчения или были эвакуированы. Ежедневные обстрелы наносили большой урон производству. Журнал дежурных МПВО ежедневно фиксировал число разорвавшихся снарядов, убитых и раненых.
В ночь на 16 сентября мартеновская печь № 8 выдала последнюю плавку.
Во второй половине сентября ИЗ был отключён от системы Ленэнерго. Единственным источником электроэнергии могла стать заводская гидроэлектростанция мощностью 400 кВт, но и она требовала ремонта. Ижорские энергетики сумели отремонтировать её старые агрегаты и обеспечить минимальные потребности завода. Весной 1942 г. заводу был выделен дизельный энергопоезд, который вырабатывал ещё 240 кВт. Энергопоезд находился под прицельным огнём врага.
В конце ноября 1941 г. директором ИЗ назначается А.А. Кузнецов, занимавший с 1940 г. должность заместителя директора.
На основании проведённых расчётов была подготовлена и 13 января 1942 г. направлена докладная записка директора завода на имя секретаря Ленинградского горкома ВКП(б) А.А. Кузнецова. В ней ставился вопрос о частичном восстановлении и пуске завода после ликвидации фронта в Колпине.
К середине сентября 1942 г. оставалось только 3 действовавших цеха. Ижорцы продолжали работать, используя металл, сваренный в мирное время. Конструкторы разработали применительно к сложившимся условиям технологию производства небольших изделий: печурок, «кошек» для растаскивания проволочных заграждений, металлических саночек для транспортировки раненых, лыж для перевозки миномётов и термосов с пищей, санейволокуш, водогреек, чайников. Цех № 19 с середины 1942 г. перешёл на выпуск реактивных и шестидюймовых снарядов, броневых башен для дотов, ручных насосов для откачки воды из траншей и окопов.
С первых дней войны было налажено обучение женщин мужским профессиям: работали курсы станочников, слесарей, крановых машинистов. Весной 1942 г. в цеха пришли подростки. Ослабленные голодной зимой, потерявшие близких, они умоляли взять их на рабочую карточку и прилежно осваивали рабочие специальности. На 1 июня число учеников 1215 лет на заводе составило 302. Они были закреплены за высококвалифицированными рабочими, ещё до войны ушедшими на пенсию. По состоянию на октябрь 1942 г. на заводе трудилось 1102 человека, из них 663 женщины.
За годы блокады на территорию завода упало 127 тысяч мин, снарядов и авиабомб.
В январе 1943 г., сразу после прорыва блокады, в Колпино приехали наркомы судостроения Носенко и тяжёлого машиностроения Казаков, представители ЦК ВКП(б) и Госплана СССР. Они осмотрели все разрушения и наметили первоочередные меры для возобновления работы предприятия. В 1944 г., как только врага отогнали от стен Ленинграда, в Колпино стали поступать станки и материалы, возвращаться эвакуированное ижорское оборудование. Восстановление начали с цеха № 10. И уже к концу года страна получила от ижорцев тысячи тонн стали, проката и заготовок.
Роль ИЗ в обороне Колпина
Ижорскому заводу отводилась особая заслуга в организации обороны Колпина. С началом войны ИЗ быстро перестроился на выпуск военной продукции. Им были изготовлены практически все защитные сооружения Слуцко-Колпинского оборонительного рубежа.
Из отчёта штаба обороны следует, что на переднем крае ижорцы соорудили из корабельной брони девять тяжёлых дотов, 290 бронированных огневых точек, установили более трёх тысяч бронированных щитов, врыли в землю 67 танковых башен и построили сорок бронированных команднонаблюдательных пунктов. Всё строительство шло из ижорской брони, включая прокатанную ранее и предназначенную для кораблей.
Линия обороны, сооружённая вокруг Колпина, была столь мощной, что немцы не только не смогли ею овладеть, но не имели на этом участке фронта скольконибудь значительного успеха. Более того, эта линия обороны во многом предрешила исход битвы за Ленинград.
На крышах высоких зданий завода были построены площадки для установки на них зениток и пулемётов. На заводской трубе, на 65метровой отметке была сделана площадка и оборудован наблюдательный пункт 12го гвардейского артиллерийского полка. С помощью стереотруб и перископов велось тщательное наблюдение за переднем краем, что позволяло корректировать огонь батарей по подавлению вражеских боевых средств на расстоянии до 20 км.
Значительна роль и в вооружении созданных ижорцами формирований пулемётами, миномётами, пушками, снарядами и патронами. Для подшефного Ижорского батальона создавались передвижные огневые бронеточки, оснащённые станковыми пулёметами и орудиями. Изготавливались термоса для доставки пищи на передовые позиции, волокуши для эвакуации раненых, печки «буржуйки» для обогрева землянок и многое другое.
Ижорский завод – фронту
Не только Ижорский батальон, но и Ленинградский фронт немало получал от ижорцев. Зимой 1943 г. заводу был поручен ответственный заказ для Балтийского флота: создать серию судов так называемого «малого флота»: морские охотники, минные тральщики, шхерные мониторы. Был организован новый цех, возглавил который С.А. Форисенков. Вскоре на сборочных стендах появились первые ходовые рубки, артиллерийские башни, секции корпусов. Одновременно велось и бронирование линейных кораблей, получивших повреждения.
В ижорскую броню были одеты катера, минный заградитель «Гарибальди», флотский бронепоезд «Балтиец», бронепоезда № 30 и «Народный мститель». Были изготовлены десятки морских артиллерийских башен, сотни корпусов и башен для танков КВ, сотни броневиков БА10. Ижорцы обеспечили ленинградское миномётное производство трубами для стволов.
Изготавливались для Ленинградского фронта также барбеты для миноносцев, щиты, щитки и ловушки различных модификаций и назначений, вращающиеся поворотные башни, санитарные тележки, бронезащита для скорострельных зенитных пушек. Ижорцы производили реактивные снаряды М13 (для «катюш») и М31 (для «андрюш»).
Специалисты завода организовали ремонтную базу для починки бронемашин, миномётов и небольших артиллерийских систем.
В июне 1942 г. по дну Ладожского озера был проложен бензопровод длиной 24 км. Для этого использовались имевшиеся на ИЗ насосные трубы диаметром 100-102 мм. С 20 июня войска Ленинградского фронта и осаждённый город стали получать 300 тонн горючего в сутки.
Жизнь военного Колпина
С первого дня войны в Колпине был введен строгий светомаскировочный режим, усилено воздушное наблюдение, приведены в боевую готовность средства оповещения и связи. В целях противопожарной защиты сносили дощатые заборы и деревянные постройки, рыли новые водоёмы, заготавливали песок, устанавливали бочки с водой. Домохозяйства обеспечивались ручными насосами, противопожарным инвентарём и оборудованием. Колпинцы овладели навыками тушения зажигательных бомб. Особое внимание уделялось дополнительному сооружению убежищ, защите городских, промышленных и других объектов.
По мере продвижения гитлеровских войск к Ленинграду население Колпина увеличивалось за счёт беженцев из близлежащих оккупированных районов.
29 августа в 751 в Колпине разорвался первый снаряд, начался интенсивный обстрел города. В этот день пострадали более пятидесяти колпинцев. В этот день прервалось железнодорожное сообщение с Ленинградом.
Интенсивные обстрелы продолжались и в последующие дни. Как вспоминал командир взвода Колпинского РУВД А.Т. Графов, «среди населения поднялась паника, были большие потери в людях, разрушались дома. При первых обстрелах приходилось насильно загонять людей в бомбоубежища». Разрушенные деревянные дома колпинцы разобрали на дрова.
Вблизи некоторых частных домов были установлены артиллерийские орудия и «катюши». По мнению блокадников, это только способствовало увеличению числа жертв. Сделав 57 залпов, батареи умолкали, а затем начинался ответный многочасовой прицельный огонь немецкой артиллерии. Во время таких перестрелок погибли десятки жителей города.
К концу октября почти всё нее население города перебралось жить в бомбоубежища. Было 12 больших и 10 относительно небольших убежищ. Они располагались по всему городу, на густонаселенных улицах.
С 11 сентября нормы выдачи хлеба снижались 4 раза. С 20 ноября они была установлены на самом низком уровне: 250 г на карточку рабочих; 125 г на карточку служащих, детей и иждивенцев. Только с 25 декабря нормы были увеличены. Нормы выдачи остальных продуктов были также ничтожны, а в декабре они по карточкам вообще не выдавались.
Как писал А.Т. Графов, в дни наступления немцев на Колпино в конце августа – начале сентября «в отсутствие основных сил органов милиции в Колпине участились кражи личного имущества, оставленного эвакуированными гражданами. Были ограблены магазин на Красной улице и хлебный ларек на проспекте Ленина. Совершались и другие правонарушения. Среди населения то здесь, то там стала вспыхивать паника. Некоторые жители бросились бежать в Ленинград и даже в Пушкин и Тосно, несмотря на то, что последние уже были заняты немцами».
Зима наступила рано и была невиданно жестокой. Морозы достигали 40оС. Смертность населения от голода была высокой, особенно с середины декабря 1941 г. до лета 1942 г. Умерших хоронили возле своих домов, землянок. Много могил было на площади Коммуны. Но зачастую трупы сбрасывались в вырытые бульдозером траншеи, складывались штабелями при больницах, медсанбатах, школах и просто лежали на улицах. Захоронения делать не успевали.
Как писал А.Т. Графов, «было немало случаев пропажи детей, особенно более упитанных… Появилось самое опасное преступление – людоедство». Милицией были выявлены торговцы, у которых было изъято более 70 кг мяса, нарубленного из мягких частей человеческих тел. На допросе торговцы показали, что после боев они ходили на передовую и заготавливали мясо убитых солдат. Задержанных приговорили Колпинским народным судом к смертной казни. За аналогичные преступления было вынесено ещё несколько смертных приговоров.
27 января 1942 г. состоялся пленум райкома партии, на котором рассматривался вопрос «О перспективном плане восстановления г. Колпино». Уже летом 1942 г. в городе прошли первые восстановительные работы. Отремонтировали дамбу, что позволило пустить гидротурбину; снабжать электроэнергией хлебозавод, больницу, цеха ИЗ.
С наступлением весны главной проблемой стала очистка улиц от трупов убитых и умерших от голода. С 27 марта по 15 апреля 1942 г. всё население в свободное от основной работы время работало на очистке улиц, дворов, бомбоубежищ.
С середины февраля увеличилась норма выдачи хлеба. Весной распустились уцелевшие сады, появилась трава. Люди собирали лебеду, клевер, подорожник, «а если удавалось найти крапивы, то это был праздник». Из травы жарили котлеты, лепёшки на машинном масле.
В апреле 1942 г. Колпинский райисполком рассматривал вопрос о выделении земельных участков для подсобных хозяйств учреждениям, предприятиям и организациям района. В первых числах мая с Большой земли прислали семена: редиску, свеклу, турнепс, брюкву, капусту. Земельные участки отводили севернее Колпина, подальше от фронта. Перед посевом были проведены в различных организациях занятия по обработке почвы, посеву огородных культур и внесению удобрений. Землю обрабатывали вручную под артиллерийским и миномётным обстрелом, дневными налетами авиации. Поэтому работать на участках стали рано утром, вечером, а чаще всего – в ночное время.
В мае 1942 г. Колпинский трест столовых организовал лечебное питание. При столовой № 1 стал работать специальный зал, который обслуживали сандружинницы. Лечебное питание как дополнительное выдавалось на основании заключения медицинской комиссии.
Летом 1942 г. в короткий срок из Колпина было эвакуировано около 27 тысяч человек. Многие жители категорически отказывались уезжать. Но им было сообщено, что карточки на следующий месяц они не получат, и они были вынуждены выезжать. Оставшиеся 1012 тысяч колпинцев работали на ИЗ, хлебозаводе, обслуживали транспорт, линии связи, больницу, другие учреждения.
За первую блокадную зиму Колпино было сильно разрушено, почернело от пожаров. С наступлением тёплых дней возникла опасность вспышки инфекционных заболеваний. У школ, в которых были эвакопункты, скапливались кучи нечистот, обрывки бинтов, части человеческих тел и другие остатки хирургических операций. Учителя складывали нечистоты в ямы, траншеи, засыпали землёй. В городе было много крыс.
Десятки домашних хозяек выполняли заказы Красной Армии. Они ремонтировали обмундирование, шили маскировочные халаты, а часть женщин под руководством Е.В. Смирновой изготавливала финские ножи и печкивремянки. В основном силами женщин при заводе было создано подсобное хозяйство на 73,5 га. Осенью было собрано более 170 тонн овощей, что позволило в день на человека выдавать по 300 г витаминной продукции.
Тяжёлой выдалась зима 1942 г. Больше чем обстрелы и бомбёжки косил людей голод. На карточки давали немного бобов или чечевицы.
10 января 1942 г. были открыты два стационара для больных дистрофией на 30 коек каждый. Во фронтовом городе не прекращали работу хлебозавод, магазины, столовые, баня, парикмахерская, библиотека, радиоузел, школа, аптека, поликлиника, родильный дом. 1 мая открылся кинотеатр. В 1942 г. родилось 200 детей.
Поскольку линия электропередачи была разрушена, то с целью непрерывного обеспечения промышленных, коммунальных предприятий, воинских подразделений, медицинских и других учреждений и организаций электроэнергией были установлены передвижная электростанция с газогенератором мощностью в 100 кВт и электростанция мощностью около 1000 кВт, смонтированная в железнодорожном вагоне. С их монтажом задача по обеспечению города электроэнергией была решена.
Артиллерийскому обстрелу часто подвергался район хлебозавода. От прямых попаданий и разрывов снарядов завод неоднократно выходил из строя. Повреждения городского водопровода и электролинии также вызывали его остановку. Но коллектив принимал самые решительные меры по ликвидации последствий поражений и тем самым не допускал срыва в обеспечении населения и воинов Красной Армии хлебом. Когда завод не мог справиться с ликвидацией последствий поражений своими силами, на помощь ему приходили службы и подразделения МПВО района. Во время ремонтов городского водопровода подразделения МПВО обеспечивали хлебозавод водой, доставляя её с реки своими автоцистернами. Не было случая, чтобы защитники города не получили положенной им нормы хлеба.
Самый опасный участок — бульвар Свободы, расположенный на заводской плотине, назывался тогда «перешейком смерти». Миновать его было никак нельзя, так как это была единственная переправа через Ижору. Враг знал об этом и не жалел снарядов и мин, пытаясь вывести плотину из строя.
В начале июня 1942 г. в результате многочасового обстрела главной плотины и гидростанции была разрушена проезжая часть дороги, водовод, разрушен один и сильно повреждён другой гидрогенератор. Разрушение плотины грозило катастрофой для завода и всего Колпина: были бы затоплены цеха, завод лишился бы электроэнергии. Мастер И.Ф. Горюнов и главный энергетик Ф.С. Лазарев спасли ситуацию: под продолжавшимся обстрелом они перекрыли шандоры головной части плотины. После прекращения обстрелов электростанция была восстановлена.
В феврале 1943 г. один из тяжёлых снарядов попал в чугунолитейный цех (рядом с оградой у бульвар Свободы и ул. Урицкого), под обломками оказалось отделение разведчиков, а глыбами от стен завалило проезжую часть улицы, по которой везли боеприпасы и шла техника на передовую. Движение остановилось. На место аварии были брошены все силы МПВО. Рвались снаряды, мины. Завал разбирали кирками и лопатами, а то и просто руками. Раненые были извлечены и доставлены в медсанбат.
На 1 января 1944 г. в городе проживало 2196 человек, на 1 января 1945 г. – 7404.
МПВО
Жизнь прифронтового города обеспечивали различные подразделения местной противовоздушной обороны. К началу войны районная МПВО имела хорошую материальнотехническую базу и обученный личный состав. В Колпине было построено 52 убежища. В 1940 г. была проведена радиотрансляционная сеть для оповещения населения города о сигналах МПВО. Всё это дало возможность с получением приказа начальника МПВО Ленинграда в день нападения Германии на СССР наиболее организованно провести развёртывание сил и средств МПВО района и приведение их в боевую готовность.
Наряду со специальными подразделениями районного штаба МПВО, на защиту города встали также гражданские формирования: команды МПВО заводов, группы самозащиты. Районный комитет Красного Креста создавал сандружины и готовил медсестёр.
Подрывники во главе с Ядвигой Урбанович обезвредили более 12,5 тысяч неразорвавшихся вражеских артиллерийских снарядов, мин, авиабомб.
Сапёры не только обезвреживали снаряды, но и восстанавливали дороги, мосты, школы, бытовые предприятия, магазины.
Много работы было у пожарных. Большой урон наносили зажигательные снаряды, так как большинство городских зданий были деревянными. Обычно немцы начинали обстрел с них, чтобы вспышки пожаров помогали им корректировать стрельбу. Колпинские пожарники создали мобильные группы, которые по первому сигналу выезжали на место возгорания. Под обстрелами и бомбёжками они ликвидировали очаги пожаров, служившие ориентиром для противника. За год, часто под ураганным огнём, ими было ликвидировано более 250 пожаров. 15 лучших бойцов и командиров были награждены орденами и медалями.
С наступлением зимы замёрз водопровод, и пожарные были вынуждены искать иные средства тушения. Вместо воды стали применить снег. С топорами и баграми «снеготушители» бросались в огонь, растаскивая горящие балки, засыпая их снегом. Истощённые бойцы с трудом переносили дым, случаи тяжёлого отравления угарным газом были почти на каждом выезде.
Значительна была также роль вышковых наблюдателей, наземных разведчиков и связистов из взвода управления. Они днём и ночью непрерывно вели наблюдения за действиями противника и поставляли своевременную информацию штабу МПВО района о возникновении очагов поражения, обеспечивали бесперебойную работу средств связи с подразделениями МПВО.
Аварийновосстановительная служба МПВО восстанавливала объекты городского хозяйства и коммуникации.
В условиях блокады подразделения использовались на заготовке дров, ремонте водопровода и канализации, эвакуации населения, захоронении умерших. Бойцы МПВО разобрали железнодорожную ветку Колпино – Пушкин.
В августе 1942 г. подразделения МПВО были реорганизованы в батальоны. В Колпине отдельную 212ю роту МПВО возглавил Михаил Иванович Богомолов. С августа 1943 г. личный состав 212й роты МПВО был приравнен по службе к частям Красной Армии.
Кремация
14 января 1942 г. главный инженер ИЗ приказал определить возможность приспособления печей одного из цехов для сжигания трупов. К 5 февраля для эксперимента были выбраны печи термического участка цеха № 3, и поздно вечером 10 февраля состоялась пробная кремация семи трупов.
Специальная комиссия, «с гигиенической точки зрения», сочла «необходимым рекомендовать и развивать сжигание как средство реальное и необходимое в данной обстановке». Ленгорисполком 27 февраля постановил: «Разрешить исполкому Колпинского райсовета депутатов трудящихся и дирекции ордена Ленина Ижорского завода производить сжигание трупов в термических печах завода». Крематорий в Колпине действовал 4 месяца (с февраля по май), и, как явствует из отчёта завода, всего были кремированы останки 5524 человек, в т.ч. в феврале 798, в марте 2307, в апреле 1771, в мае 658. В большинстве это были бойцы Красной Армии, павшие на колпинских рубежах.
Опыт ИЗ был использован при организации крематория на кирпичном заводе № 1 в Ленинграде.
Сандружинницы
Ещё в 1939 г. райком Красного Креста организовал курсы медсестёр. С началом войны был объявлен новый набор. За первую неделю войны на курсы было подано 200 заявлений.
До войны в Колпине были подготовлены две санитарные дружины. С началом войны был объявлен набор в сандружины, организовано их обучение. Занятия вёл зав. райздравотделом Духовской. За первую неделю было подано 400 заявлений. Из окончивших курсы было сформировано 14 сандружин. Значительная часть колпинских сандружинниц – девушки 1518 лет.
Сандружинницы, закреплённые за убежищами помогали больным, отправляли ослабевших стариков и детей в больницы, читали газеты, проводили политинформации, водили и носили людей в баню, боролись с вшами, стараясь предотвратить эпидемии, раздавали лекарства.
Командир сандружины Надежда Мясникова обратилась к А.В. Анисимову с просьбой изготовить и поставить в убежищах кипятильники. Анисимов договорился с заводом. Вскоре кипятильники из оцинкованного железа по эскизу Мясниковой стояли почти во всех убежищах.
Самоотверженный труд девушек спас Колпино от эпидемии.
Колпинские сандружинницы оказали помощь 1200 раненым бойцам, ещё около 11 тысяч человек было спасено в Колпине. Наибольшее число спасённых раненых на счету Е.Ф. Ващенко, А.А. Французовой, П.Н. Боженовой.
Девять девушек: Капа Захарова, Ната Павлова, Леля Шортова, Аня Афанасьева, Зина Верховцева, Тося Соколова, Маша Малышева, Вера Васильева, Нина Богданова – погибли на улицах Колпина при исполнении воинского долга.
Милиция
С первых дней войны 30% личного состава колпинской милиции, годные к воинской службе и имеющие военную специальность, были направлены в Красную Армию. На службу в милицию были призваны женщины. Они быстро овладели навыками оперативнослужебной работы.
29 августа из состава милиции вместе с бойцами 75го истребительного батальона сформировали три взвода. Они заняли линию обороны в районе Третьей колонии вместе с отрядом А.В. Анисимова. Вместе с батальоном В.С. Кудрявцева взводы РУВД участвовали в наступления 4 сентября на ЯмИжору.
19 сентября взводы РУВД были сняты с фронта и приступили к своим служебнооперативным обязанностям по наведению надлежащего порядка в городе и укреплению дисциплины среди населения по законам военного времени. Были созданы три заставы для проверки граждан, прибывающих в Колпино и выезжающих из города. Кроме того, усилили патрулирование Колпина и его окрестностей. В нем участвовали работники милиции, бойцы МПВО, рабочие ИЗ. Бойцы подразделений и работники милиции бдительно несли службу и не позволили совершить ни одного диверсионного акта. Было задержано 40 шпионов, диверсантов и разведчиков. Велось строгое наблюдение за всеми важными объектами в Колпине. На милицию была возложена ответственность за контроль светомаскировки улиц, домов, квартир и цехов завода.
Милиция успешно справлялась с поддержанием надлежащего правопорядка. Активно работали сотрудники ОБХСС, велась борьба со спекуляцией.
Голод, истощение и физическая слабость заставляли работников милиции, как и многих колпинцев, ходить на передовые позиции обороны и выкапывать изпод снега мороженые овощи и картофель для питания личного состава и воспитанников детского дома.
Из воспоминаний А.Т. Графова: «Главной задачей в этот период стало спасение жизни людей. Мы совершали обходы квартир, выявляли больных дистрофией, одиноких детей, иногда даже рядом с трупами родителей. Сирот мы проводили в милицию. Приходилось кормить их на свои продовольственные пайки. Позднее РОНО организовал детскую комнату при милиции, затем детдом».
Немало было случаев, когда милиционеры своим мужеством и решительностью предотвращали взрывы, пожары, последствия разрушений.
Четверо милиционеров стали жертвами обстрелов и бомбёжек, ещё четверо погибли в действующей армии у стен Колпина, один умер от голода.
78 сотрудников колпинской милиции награждены медалью «За оборону Ленинграда», 9 человек – орденами.
Спасение детей
Вскоре после начала войны началась эвакуация детей до 12 лет. Многие матери не хотели отдавать своих детей, прятали их, так как эшелоны бомбили. А.Т. Графов так описал эвакуацию под обстрелом: «Свист снарядов и грохот их разрывов, гул самолётов противника над головами... Дети кричали от страха, обезумевшие от горя матери не отдавали их. Работники милиции часто силой разъединяли мать и дитя. По законам того времени, эшелоны нельзя было задерживать. На нашу радость вскоре стали эвакуировать семейно: детей с матерями и стариков, хотя старики иногда не хотели уезжать, оказывали даже физическое сопротивление».
В доме на пр. Ленина, 9/28, были организованы ясли типа эвакоприёмника на 20 мест. Во второй половине сентября этот приёмник закрылся.
При поликлинике была открыта комната для осиротевших детей. После тщательной санитарной обработки и двухтрёхдневного отдыха они эвакуировались в детские дома Ленинграда. Выявлением осиротевших детей и их эвакуацией занималась инспектор охраны детства РОНО Ольга Павловна Муук.
В начале декабря 1941 г. на улице Труда, 6, была открыта детская комната, в феврале 1942 г. переведённая в убежище дома на пр. Ленина, 11, и реорганизованная в детский дом. Работали в нём учителя. Сюда поступали осиротевшие дети, которых затем отправляли в детские дома Ленинграда, а оттуда – на Большую землю.
В апреле 1942 г. детский дом реорганизовали в приёмникраспределитель Управления НКВД, рассчитанный на 100 детей. Он переехал в здание детского очага на улицу Карла Маркса, 10. Для работы в приёмнике РОНО выделил 7 учителей. Медицинскую помощь оказывала врач В.А. Пивовар. Инспектором по эвакуации была М.В. Балихина. Приемникраспределитель существовал до 10 августа 1942 г. Через него прошло 530 детей. 30 детей умерло от голода.
С апреля по октябрь 1942 г. работали ясли.
Школа в блокадном Колпине
14 июля 1941 г. во исполнение постановления Ленсовета РОНО (его заведующим был П.А. Парфёнов) издаёт приказ о консервации школ (№№ 398, 399, 400, 403), организации в школах эвакопунктов и работ по эвакуации населения.
Школьники 8-10х классов принимали участие в о6оронных работах.
Приказами РОНО от 18 и 20 ноября 1941 г. были организованы занятия с детьми в убежищах города. Занятия вели 32 педагога. Они проходили с детьми учебную программу; в убежищах они сообщали последние военные сводки, раздавали письма и газеты, готовили население к противовоздушной обороне.
Несмотря на беспрерывную эвакуацию населения, в Колпине ещё оставалось значительное количество детей школьного возраста. 27 апреля 1942 г. райисполком постановил открыть в районе школу для оставшихся в городе детей.
Занятия начались 3 мая в здании школы № 400 (пр. Ленина, 5). Это здание для школы было выбрано не случайно: в силу своего расположения оно было невидимым для стоявшей на подступах к городу артиллерии врага. За всё время обстрелов в дом попал всего один снаряд, да и тот не разорвался. В первую блокадную зиму в здании размещался медсанбат, под стенами школы укрывались полевые кухни, орудия, повозки. Весной 1942 г. все временные жильцы покинули здание.
Директором была Александра Андреевна Новосельская. Обучалось 475 детей с 1 по 9 класс. Занятия велись по программе предыдущего года обучения, ребята повторяли пройденное перед войной. Но жизнь внесла коррективы в учебную программу: в старших классах на уроках математики считали на счётах, заполняли ведомости заработной платы, готовили статистические отчёты. На занятиях по русскому языку обучали составлению деловых бумаг, на уроках ботаники подробно изучались дикорастущие растения, употребление их в пищу, посадка, выращивание и консервирование овощей. Эти навыки готовили к взрослой жизни и учили науке выживания. Помимо уроков занимались заготовкой дров, сбором дикорастущих съедобных трав, работой в подсобном хозяйстве города и на пришкольном огороде.
1 июля 1942 г. приказом РОНО, во исполнение решения Ленсовета, учебные занятия в школе были прекращены. Ученики 69 классов были направлены в подсобное хозяйство Колпинторга, где пололи и ухаживали за овощами, помогали убирать урожай для тружеников городафронта.
Летом 1942 г. эвакуировалось большинство учеников и учителей. 1 сентября в школе продолжили учёбу 18 ребят, весной следующего года было 43 ученика, вернувшихся из детдомов Ленинграда, а к 1 сентября 1943 г. – 60. После снятия блокады в школе обучалось 140 детей.
В здании школы № 400 начала работать районная библиотека для взрослых и детей, т.к. зимой 1942 г. здание библиотеки на пр. Ленина, 10, было разрушено вражеским снарядом. В минуты затишья библиотекой пользовались и оборонявшие город военные. В библиотеке висела карта, где отмечалось передвижение линии фронта. Библиотека находилась здесь до конца 1944 г.
Учителя организовывали праздники, вовлекали детей в творчество, с самодеятельными концертами ученики выступали перед ранеными. Ребята выпускали стенгазету «Школа на фронте».
3 декабря 1942 г. была открыта вечерняя школа для молодёжи. Так была создана возможность закончить среднюю школу юношам и девушкам, работавшим на предприятиях и в учреждениях города. Директором вечерней школы была Нина Николаевна Морозова, учитель русского языка и литературы школы № 402, боец МПВО. Занятия в блокадной школе продолжались вплоть до снятия блокады в январе 1944 г.
7 января 1944 г. исполком райсовета обсудил итоги первого полугодия учебного года. Выступившая с отчётом зав. РОНО Новосельская доложила, что в учебный процесс вовлечены все дети школьного возраста, посещаемость занятий удовлетворительна, школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.
Медицина в блокадном Колпине
Положение прифронтового города потребовало перестройки здравоохранения в связи с задачами военного времени. Начальником медицинской и санитарной службы города был утверждён заведующий райздравотделом В.И. Духовской. Медицинской службой ИЗ руководил Н.М. Георгиевский.
Все лечебные учреждения были незащищённого типа и с первых дней обстрела выходили из строя.
Поликлиника
29 августа 1941 г. при первом обстреле прямым попаданием снаряда была сильно разрушена поликлиника. Она осталась без света, связи и без воды. Но и под обстрелом коллектив медицинских работников под руководством врача Л.В. Грищенко продолжал работать. А за ночь поликлинику перебазировали в школу № 8 (на Лагерном шоссе). И уже в 9 часов утра 30 августа на новом месте начали приём раненых.
В здании школы были устроены терапевтический и хирургический кабинеты и стационар на 20 коек. Кроме того, врачи поликлиники обслуживали убежище в подвальном помещении школы, вели приём больных. Оказывали помощь не только гражданскому населению, но и бойцам народного ополчения, военнослужащим. Несмотря на постоянные обстрелы, скорая и квартирная помощь работали безотказно.
Больница
В первые недели войны хирург А.Н. Хрусталёв подготовил и прочитал врачам больницы доклады по военнополевой хирургии. Две трети медперсонала (врачи и медсёстры) были мобилизованы в армию, оставшиеся приняли на себя всю тяжесть сложной работы по оказанию помощи раненым.
29 августа, в день первого обстрела Колпина, весь приёмный покой в больнице был переполнен ранеными. «Стоны, крики о помощи под грохот разрывов снарядов. Все, кто мог, оказывали первую помощь».
С началом обстрелов работа больницы была перестроена на оказание хирургической помощи по типу медсанбата. Эвакуация раненых проводилась в Ленинград ежедневно. Весь персонал в конце 1941 г. был переведен на казарменное положение и жил в подвале.
Главврачом больницы с начала войны до ноября 1943 г. был С.А. Коссинский. После его смерти исполнение обязанностей принял А.Н. Хрусталёв, а с января 1944 г. – В.А. Пивовар.
В сентябре 1941 г. в больнице работали три хирурга. В октябре остался только один.
В первые дни обстрела был частично разрушен второй этаж больницы. Срочно пришлось развернуть дополнительные койки на первом этаже. Здесь же оборудовали две операционные.
Терапевтическое отделение на 25 коек разместилось в сохранившейся части здания. Естественного освещения не было, так как окна заложены кирпичом. Помещение было сырым, тепловой режим в течение суток менялся изза несовершенства поставленных печных приборов. Заполнялась больница без дневного освещения. Диагнозы: преимущественно дистрофия, сердечные недуги.
Здание больницы многократно подвергалось разрушению от артобстрела. 7 мая 1942 г. была сильно повреждена правая часть. 13 августа 1942 г. прямое попадание авиабомбы разделило здание на две части. Были разрушены операционный блок, бокс детской поликлиники, выбыла из строя кухня. При продолжавшихся обстрелах персонал спешно переводил больных в сохранившиеся помещения.
Для борьбы с брюшным тифом создали инфекционное отделение, которое с марта 1942 г. развёрнуто на 15 коек в здании больницы, а затем расширено до 25 коек и переведено в деревянное здание на пр. Ленина, 8. Во время одного из обстрелов разбито крыльцо тифозного отделения и частично стена здания. Никто из больных и персонала не пострадал. Дежурная сестра Вересова спокойно, без паники перевела больных в уцелевшую часть здания.
В апреле 1942 г. вспыхнула эпидемия дизентерии. Было развёрнуто дизентерийное отделение на Финляндской ул. (на 75 коек). Путём сплошного обхода с участием военных и гражданского населения были выявлены и госпитализированы все больные. Больных обслуживала В.А. Пивовар. Эпидемия была ликвидирована, а дизентерийное отделение закрыто в сентябре.
Огромную работу по подготовке ко второй блокадной зиме проделала В.А. Пивовар. В больнице появились новые печки, 60 окон заделано кирпичной кладкой, устроена новая кухня, оборудованы прачечная и красный уголок, организована столовая .
В конце 1943 г. при больнице был открыт стационар для больных с алиментарной дистрофией, в котором больные пребывали 12 дней. Жизнь многих была сохранена благодаря питанию, лечению и заботливому уходу персонала больницы.
Эвакогоспиталь
Ещё до начала войны в подвальном помещении ДИТР (ул. Труда, 1) был оборудован стационарный пункт медицинской помощи. С началом обстрелов в подвальном помещении и на первом этаже разместился госпиталь. Во дворе дома (ближе к кинотеатру «Луч» – зданию бывшей Троицкой церкви) был выстроен большой сарай, куда сносили умерших в госпитале и погибших, подобранных на улице.
7 мая 1942 г. артиллерийским снарядом была разрушена операционная больницы, и её правое крыло грозило обвалом. Коллектив больницы срочно вывез раненых в помещение госпиталя, туда же направились врачи и медсёстры. Здесь они вели операции.
Родильный дом
В конце сентября 1941 г. родильный дом был переведён в помещение городской больницы. В этот период в больнице не было ни отопления, ни регулярного электрического освещения. Холодные и голодные месяцы сказались на смертности детей и рожениц. В феврале 1942 г. родильное отделение больницы вновь переехало в родильный дом. Он начал работать в холодное и тёмное время. Водоканализации, электричества, телефона, отопления не было. Частая смена воинских частей, занимавших здание в течение четырех зимних месяцев, привела его в антисанитарное состояние.
Коллектив роддома за одну неделю восстановил кухню, коридоры. Организовали комнату под прачечную, произвели чистку всех помещений, поставили печкивремянки, собрали инвентарь. Было развёрнуто 20 коек, с хорошей родовой комнатой на две кровати. Работники роддома добились разрешения и открыли молочную кухню.
27 февраля 1942 г. прямым попаданием снаряда в здание роддома, разрушена стена второго этажа. 30 апреля три снаряда упали в нескольких метрах от подъезда роддома и один снаряд попал в фундамент, но жертв не было. 25 мая 1942 г. прямым попаданием в крышу левого крыла разрушены две комнаты верхнего этажа.
Акушерскогинекологическая работа шла на убыль ввиду эвакуации населения из района. Но роддом не пустовал, открыл стационар для дистрофиков на 15 коек.
Медицинская работа сводилась к амбулаторному приему женщин, оставшихся в районе.
Детская поликлиника
Уже во время первого обстрела здание поликлиники основательно пострадало. В сентябре после прямых попаданий в здание поликлиники она была переведена в здание больницы.
Врачи детской поликлиники по собственному почину вышли на работу в убежища для оказания помощи больным детям и улучшения их быта, а также для наблюдения за санитарным состоянием. В октябре 1941 г. все убежища были закреплены за лечебными учреждениями. Детской поликлинике достались убежища, расположенные под Домом культуры, в школе № 9 (Речной пер.), бывшей фабрикекухне, в ДИТР (ул. Труда, 1) и под магазином № 26.
7 мая 1942 г. прямым попаданием снаряда здание поликлиники было разрушено. Жертв не было, но погибло все имущество. А 8 мая возобновился приём больных детей в здании яслей № 1. Здесь была оборудована детская столовая на 200 мест, которая существовала до 1 августа 1942 г. Продолжалась эвакуация окрепших детей.
Судьба храмов
Серьёзным разрушениям подверглись здания храмов, находившиеся на рубеже обороны Колпина. Полностью уничтожены здания часовни на месте обретения чудотворной иконы Св. Николая в ЯмИжоре (18801887, арх. С.В. Садовников), церкви Св. Николая Чудотворца в ЯмИжоре (1841 г., арх. Измайлов по проекту арх. Д.И. Висконти), приписанной к ней каменной часовни в память в бозе почившего государя императора Александра II (18851886, арх. Н.В. Никитин) на развилке дорог на Царское Село и Фёдоровский посад. Погибло здание церкви Преображения Господня в Московской Славянке, построенной по проекту Дж. Кваренги в конце XVIII в. Были полностью разрушены оказавшееся на линии фронта здание бывшей кирхи немецкой колонии, находившиеся в Колпине кладбищенская церковь и здание костёла.
В начале августа 1941 г. специальные части НКВД направленным взрывом обрушили шпиль колокольни Троицкого собора, чтобы лишить вражескую артиллерию ориентира при ведении огня. Спустя два года взорвали и разрушенные обстрелами стены колокольни, угрожавшие уличному движению. Сильно пострадало здание храма.
Судьба жителей немецких колоний и финских деревень
После захвата гитлеровскими войсками села ЯмИжора в колонии были направлены формирования ижорских ополченцев. Местом ожесточённых боёв стала Третья колония. После того, как колония была освобождена, ещё более двух лет линия фронта проходила в непосредственной от неё близости.
Оборонительные сооружения на подступах к Колпину прошли непосредственно по территории финской деревни Лангелово, и её жители перебрались в дома жителей Мокколово.
В соответствии с приказом НКВД от 30 августа 1941 г. началась принудительная эвакуация лиц немецкой и финской национальности, проживавших в Ленинградской области. 58210 человек было переселено в Красноярский и Алтайский края, Новосибирскую и Омскую области, Казахстан. В то время это были голые местности, удалённые от какихлибо населённых пунктов. Многие оказались на берегу Северного Ледовитого океана.
После войны выжившим депортированным финнам и немцам вернуться не разрешали вплоть до 1956 г. К тому времени ни от колоний, ни от финских деревень не осталось ничего.
Последствия войны для города
23 января 1944 г. в Колпине у заводской турбины разорвался последний вражеский снаряд. 27 января вечером колпинцы по радио узнали о полном снятии блокады Ленинграда. Вечером 30 января из Ленинграда пришёл первый пассажирский поезд. Вскоре было восстановлено железнодорожное сообщение Ленинграда с Москвой.
В книге «Помним» приведены скорбные списки призванных Колпинским райвоенкоматом военнослужащих, не вернувшихся с войны, и мирных жителей Колпина, погибших в период блокады. В списках более восьми с половиной тысяч человек.
В «Сведениях городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников о числе погибшего в Ленинграде населения» от 25 мая 1945 г. указано, что в Колпине убито 714, умерло от голода 1611, ранено 1593 человека. К концу января 1944 г. население Колпина составляло около 2 тысяч.
Город и завод лежали в руинах. За время блокады противник выпустил по Колпину 140 939 снарядов, сбросил 496 авиабомб, из них на территорию ИЗ 8942 снаряда и 67 бомб. Из 2183 жилых домов к январю 1944 г. остались 327, но и те нуждались в ремонте.
© Из книги "История Колпина" (авторы Е. Сизёнов, Г. Ефимова, Р. Иволга).
Авторам: Все статьи, размещенные на нашем сайте, являются собственностью их уважаемых авторов. Если вы
считаете, что мы нарушили ваше авторское право опубликовав статью или фото, или в случае наличия
ошибки в указании истинного автора-правообладателя или гиперссылки на интернет-ресурс - напишите нам
на электропочту kontent@kolpino.ru и недоразумение будет исправлено.
Новости по теме
08.09.2024
07.11.2022
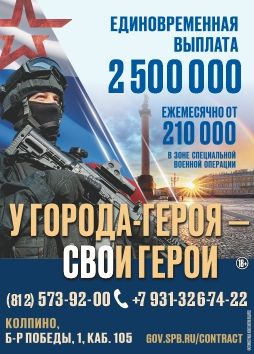
Лист новостей
20.07.2025
18.07.2025
18.07.2025
17.07.2025